
--Михаил Владимирович, чем занимается ваша лаборатория?
У нашей лаборатории № 7, носящей название «Адаптивных и робастных систем имени Я.З. Цыпкина», очень широкий спектр научных интересов, и корни этого уходят довольно глубоко.
Лаборатория № 7 была основана в декабре 1956 г., так что в следующем году будет круглая дата: нашей лаборатории исполнится 70 лет. Она была основана по инициативе Якова Залмановича Цыпкина, тогда еще не академика, который и стал ее первым заведующим. Он возглавлял ее до своего ухода из жизни в декабре 1997 г. В 1998 г. лаборатории было присвоено имя ее основателя.
В то время тематика лаборатории отражала, прежде всего, интересы самого Якова Залмановича и те, которые тогда были в центре внимания исследователей. Прежде всего, это теория импульсных, релейных, цифровых автоматических систем, алгоритмы адаптации, критерии абсолютной устойчивости, а также вопросы робастной устойчивости, которая тогда только начинала привлекать внимание исследователей.
 С 1998 г. нашей лабораторией руководил д.т.н. Борис Теодорович Поляк, которого все прекрасно знают и не только в нашем Институте, но и далеко за его пределами, в мировой науке. В то время в тематике лаборатории появляется ряд новых научных направлений: робастное управление, синтез оптимальных регуляторов заданной структуры, задачи управления при постоянно действующих возмущениях и др. Продолжала развиваться и традиционная для лаборатории тематика адаптивного управления, в частности – частотная теория адаптивного управления.
С 1998 г. нашей лабораторией руководил д.т.н. Борис Теодорович Поляк, которого все прекрасно знают и не только в нашем Институте, но и далеко за его пределами, в мировой науке. В то время в тематике лаборатории появляется ряд новых научных направлений: робастное управление, синтез оптимальных регуляторов заданной структуры, задачи управления при постоянно действующих возмущениях и др. Продолжала развиваться и традиционная для лаборатории тематика адаптивного управления, в частности – частотная теория адаптивного управления.
Борис Теодорович руководил лабораторией № 7 в течение полутора десятилетий, до 2013 г., после чего передал руководство мне, так что я ее третий заведующий. Конечно, с течением времени тематика лаборатории продолжает в некоторой степени меняться. Однако и сейчас магистральные направления нашей работы связаны с вопросами робастного управления, оптимизации и адаптивного управления.
С самого основания наша лаборатория всегда старалась быть в курсе современных направлений развития теории автоматического управления – науки, которая до сих пор находится в процессе своего становления, которое продолжает происходить прямо на наших глазах. Даже сама ее научная терминология пока не окончательно устоялась, и разные научные школы используют разные термины. Конечно, мы все друг друга понимаем, но тем не менее…
Интересно, что даже термин «робастность» возник в науке, которая не имеет прямого отношения к теории управления. Он появился в 50-х гг. прошлого века в работах знаменитого статистика Дж. Бокса, который занимался построением статистических процедур, устойчивых к возможным отклонениям от принятых вероятностных моделей распределений данных. В буквальном переводе английское слово «robust» означает «твердый», «крепкий». Впоследствии этот термин был воспринят в теории управления, где наполнился новым, богатым содержанием.
Программа «робастизации» теории управления восходит к Якову Залмановичу Цыпкину. В классической теории обычно предполагается, что модель системы известна или оценивается в процессе идентификации. Между тем характеристики любой реальной системы содержат неизбежные неточности. Робастная теория, по–прежнему вызывающая огромный интерес исследователей во всем мире, предлагает методы учета подобных неопределенностей.
Например, это могут быть неопределенности во входах системы – тогда мы сталкиваемся с внешними возмущениями. Или же они могут быть сосредоточены в самом описании системы – например, в силу неточного знания тех или иных ее параметров, или же их значения могут меняться с течением времени. Управление, построенное без должного учета этих обстоятельств, может привести к катастрофическим результатам, вплоть до потери системой устойчивости. Даже если система сохранит устойчивость, она может вести себя крайне неудовлетворительным образом. Как видите, мы все время говорим о реальных системах управления, так как стараемся черпать наши задачи из практики, и наши результаты предназначаются для того, чтобы не оставаться красивыми формулами на бумаге, а приносить практическую пользу.
Эти соображения приводит нас к идее построения так называемых «робастных регуляторов». Эти регуляторы гарантируют должную работоспособность системы, какие бы значения ни принимали ее неизвестные параметры – конечно же, в определенных пределах.
Как я уже говорил, другой источник неопределенности – это внешние возмущения, воздействующие на систему извне. Например, под влиянием порывов ветра высотное здание начинает отклоняться, раскачиваться, и мы хотим противодействовать этому эффекту. Нас это приводит к проблеме подавления внешних возмущений. Эта задача близка к предыдущей, но не тождественна ей. Она требует своих подходов и технического аппарата.
--Подавление или компенсация?
Здесь нет устоявшейся терминологии. В научной литературе употребляются самые разные слова: «компенсация», «парирование», «гашение» возмущений. Мы чаще всего говорим о подавлении возмущений, стараясь противодействовать воздействию возмущений на объект – в той мере, в какой это можно сделать – с помощью выбора того или иного закона управления, той или иной обратной связи.
С этим довольно тесно связано важное понятие «хрупкости» регуляторов. Внимание к нему научной общественности привлекла знаменитая статья авторов Keel L.H. и Bhattacharyya S.P. под названием “Robust, fragile, or optimal?”, вышедшая в 1997 г. Она содержала серию примеров, показывающих, что малые изменения параметров регулятора, оптимального по тому или иному критерию, могут привести к потере устойчивости замкнутой системы управления. Это явление и получило название «хрупкости». Стоит отметить, что авторы статьи выразили признательность Я.З. Цыпкину, привлекшему их внимание к этой проблеме.
Если говорить о практической реализации регуляторов, то неизбежно появление неопределенности, источник которой связан с неточностью технической реализации регулятора (в том числе оптимального) или с необходимостью настройки его параметров в процессе эксплуатации. Так что построение нехрупких регуляторов, которые выдерживают определенные вариации своих коэффициентов, – это еще одно очень интересное и важное научное направление, которым также занимается наша лаборатория.
Лаборатория, еще со времен Якова Залмановича, всегда имела сильные международные связи с учеными из США, Швеции, Франции, Италии, Мексики, Израиля, Португалии... Здесь можно упомянуть имена таких ученых мирового уровня, как Lennart Ljung, Stephen Boyd, Аркадий Немировский, Анатолий Юдицкий, Roberto Tempo, Fabrizio Dabbene, Юрий Нестеров и многих других.
У нас было много совместных научных грантов и проектов – российско-французских, российско-итальянских, мы регулярно ездили к нашим коллегам, они приезжали к нам, сюда, в лабораторию. Сейчас, по понятным причинам, все стало сложнее, но, тем не менее, мы надеемся на возобновление контактов с нашими зарубежными коллегами.
--Как вы находите объекты исследования?
По–разному. Если говорить, как сейчас модно выражаться, о миссии лаборатории, то я бы назвал два момента.
Во–первых, это следить за новейшими достижениями в теории автоматического управления. Мы внимательно изучаем литературу, и отечественную, и зарубежную, стараемся быть в курсе того, чем жива мировая наука, стараемся реагировать на современные вызовы и по мере сил вносить в нее и свой вклад.
Вторая сторона – это продолжение традиции теоретических исследований. Лаборатории в нашем институте занимаются разными аспектами управления. Мы принадлежим к той группе, которая в первую очередь интересуется теорией автоматического управления. Но это вовсе не значит, что мы пишем только формулы, и больше нас ничего не интересует. Мы отдаем должное и приложениям.
 Так, сейчас ряд наших сотрудников участвует в большом проекте в рамках программы «Приоритет 2030», связанном с автономным судовождением во внутренних водных путях России. Проект предполагает создание системы управления маломерного автономного судна. В частности, задача состоит в автоматизации управления движением автономного судна на базе 8,5-метрового катера «Волжанка–Вояджер–800».
Так, сейчас ряд наших сотрудников участвует в большом проекте в рамках программы «Приоритет 2030», связанном с автономным судовождением во внутренних водных путях России. Проект предполагает создание системы управления маломерного автономного судна. В частности, задача состоит в автоматизации управления движением автономного судна на базе 8,5-метрового катера «Волжанка–Вояджер–800».
Как вы знаете, не так давно проводились общеинститутские конкурсы по созданию систем управления подводным аппаратом и квадрокоптером. Наша лаборатория участвовала в нем двумя группами, каждая из которых развивала свои подходы, и их итоговые результаты выглядят более чем достойно.
К нам часто приходят люди «извне», с задачами, с какими–то вопросами, и мы охотно консультируем. Нередко это приводит к тому, что мы проводим новые интересные исследования и получаем новые научные результаты. Например, в 2020–2022 гг. у нас было несколько проектов по заказу ФАУ «ГосНИИАС».
Задача состояла в формировании высотно–скоростного профиля полета воздушного судна, обеспечивающего снижение расхода топлива в рамках уже совершающегося полета, когда задано время прибытия в конечную точку. При этом предполагалось, что оптимизация профиля скорости и высоты периодически обновляется в процессе полета с учетом фактического положения воздушного судна и параметров полета. Поэтому здесь важен вопрос разработки процедуры оптимизации с невысокой вычислительной сложностью для получения результата расчетов всего лишь за несколько минут – с учетом ограниченных вычислительных ресурсов на борту воздушного судна.
Еще одна сложность этой задачи состояла в том, что секундный расход топлива зависит в том числе от массы воздушного судна, а масса, в свою очередь, постоянно уменьшается на величину расхода топлива.
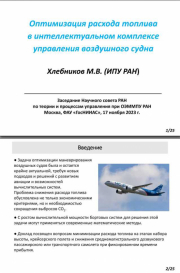 Так вот, нами был разработан метод расчета высотно–скоростного профиля, как для этапа крейсерского полета, также и для этапов набора высоты и снижения, которые потом уже были объединены в единое целое. Разработанный нами алгоритм оказался способным обеспечить экономию расхода топлива, достигающую 3 %. Это очень большие цифры. Наши заказчики были довольны, и мы также считаем, что работа была выполнена успешно.
Так вот, нами был разработан метод расчета высотно–скоростного профиля, как для этапа крейсерского полета, также и для этапов набора высоты и снижения, которые потом уже были объединены в единое целое. Разработанный нами алгоритм оказался способным обеспечить экономию расхода топлива, достигающую 3 %. Это очень большие цифры. Наши заказчики были довольны, и мы также считаем, что работа была выполнена успешно.
Так что мы вполне активно реагируем и на практические запросы, но тем не менее, центр тяжести наших интересов лежит в области теории, в области фундаментальной науки.
--Расскажите, пожалуйста, о своем учителе Б.Т. Поляке.
Замечательно, что вы упомянули Бориса Теодоровича Поляка. Это и мой учитель, и старший товарищ, и человек, с которым мне выпало счастье долгое время вместе работать и дружить. Его уход из жизни в феврале 2023 г. – колоссальная потеря и лично для меня, и для нашей лаборатории, и для Института, и для мировой науки. Это фигура огромного масштаба. В нем удивительным образом сочетались прекрасные человеческие качества с огромным научным потенциалом.
 Если посмотреть на тематику его публикаций, вы увидите широчайший спектр: от рандомизированных методов и стохастической оптимизации до техники линейных матричных неравенств и управления хаосом, от построения новых функций Ляпунова до методов многокритериальной оптимизации, и многое-многое другое. У нас с ним была совместная статья по робастному методу главных компонент. До последних месяцев, даже недель, жизни Борис Теодорович был исключительно активен. Даже когда он был совсем болен, я часто приезжал к нему домой, и мы долго и обстоятельно говорили о науке, о проблемах, которые он считал важными и интересными…
Если посмотреть на тематику его публикаций, вы увидите широчайший спектр: от рандомизированных методов и стохастической оптимизации до техники линейных матричных неравенств и управления хаосом, от построения новых функций Ляпунова до методов многокритериальной оптимизации, и многое-многое другое. У нас с ним была совместная статья по робастному методу главных компонент. До последних месяцев, даже недель, жизни Борис Теодорович был исключительно активен. Даже когда он был совсем болен, я часто приезжал к нему домой, и мы долго и обстоятельно говорили о науке, о проблемах, которые он считал важными и интересными…
Вот у меня на столе лежит книга, которая вышла в прошлом году – «Оптимизация и управление».
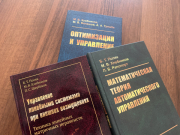 Дело в том, что две науки, оптимизация и управление, долгое время развивались независимо друг от друга. Управление имело дело с регуляторами, устойчивостью, передаточными функциями, обратной связью, годографом Найквиста и т.п. Оптимизация же зародилась еще в античности. Потом, при изучении гладких функций, возникла теория экстремума; значительно позже, уже в XX веке, сначала возник теоретический интерес к таким задачам, как линейное и нелинейное программирование, а затем были созданы и численные методы их решения. Примерно в это же время – с конца 1950-х гг. – в управлении произошел большой поворот: возникла концепция оптимального управления (принцип максимума Понтрягина, линейно-квадратичный регулятор), и стала видна связь этих двух дисциплин.
Дело в том, что две науки, оптимизация и управление, долгое время развивались независимо друг от друга. Управление имело дело с регуляторами, устойчивостью, передаточными функциями, обратной связью, годографом Найквиста и т.п. Оптимизация же зародилась еще в античности. Потом, при изучении гладких функций, возникла теория экстремума; значительно позже, уже в XX веке, сначала возник теоретический интерес к таким задачам, как линейное и нелинейное программирование, а затем были созданы и численные методы их решения. Примерно в это же время – с конца 1950-х гг. – в управлении произошел большой поворот: возникла концепция оптимального управления (принцип максимума Понтрягина, линейно-квадратичный регулятор), и стала видна связь этих двух дисциплин.
Нам хотелось написать книгу, затрагивающую некоторые точки соприкосновения управления и оптимизации. В частности, нам представлялось важным проследить тесную связь между оптимизационными задачами и задачами, возникающими в теории управления. Вместе с моими коллегами Максимом Викторовичем Балашовым и Андреем Александровичем Трембой мы написали эту книгу. Она посвящена светлой памяти Бориса Теодоровича Поляка, который принимал активное участие в обсуждениях ее общей направленности и содержания, однако эта деятельность оборвалась с его уходом из жизни в феврале 2023 г.
Здесь я хотел бы выразить признательность за постоянную поддержку и многочисленные советы нашему директору Дмитрию Александровичу Новикову – инициатору создания и этой книги, и вышедшего в 2019 г. учебного пособия «Математическая теория автоматического управления», его авторы – Б.Т. Поляк, М.В. Хлебников и Л.Б. Рапопорт, в котором мы постарались в современной форме изложить основы теории управления.
--Как Вы пришли к исследованию робастных систем?
Именно сейчас, осенью 2025 г., исполняется 20 лет, как я стал сотрудником ИПУ РАН. Мое заявление о приеме визировал Ивери Варламович Прангишвили, и вот уже два десятилетия я имею счастье работать в этих стенах, в лаборатории № 7: сначала в должности старшего, затем ведущего, главного научного сотрудника, а потом и заведующего нашей замечательной лабораторией.
В мае 2010 г. здесь, в нашем «втором» диссертационном совете, я защитил докторскую диссертацию, а Борис Теодорович был моим научным консультантом. Так получилось, что теперь я сам руковожу этим советом.
По образованию я учитель математики. Я закончил математический факультет Московского педагогического государственного университета, это бывший МГПИ им. В.И. Ленина. Это было давным-давно, в 1995 г. Потом я довольно долго преподавал в высшей школе – в МПГУ, в МИСиС – классические курсы: математический анализ, линейная алгебра, дифференциальные уравнения... Параллельно учился в аспирантуре, работал над кандидатской диссертацией, которую защитил в Московском энергетическом институте. Это уже был 1999 г. Но чем дальше, тем больше я стал ощущать, что мне все-таки хочется заниматься наукой. Конечно, уже будучи сотрудником Института, я продолжал преподавать, как и многие мои коллеги, но желание сосредоточиться на научной деятельности победило.
У меня было две или три статьи, опубликованных в журнале «Автоматика и телемеханика», АиТ.
Тогда, как, впрочем, и сейчас, в конце статьи в АиТ была пометка: «Статья представлена к публикации членом редколлегии таким-то». В моем случае там значилось имя Бориса Теодоровича Поляка, с которым я еще не был знаком, но это стало возможностью начать личное общение. Я пришел к нему сюда, в 440-ю комнату, и рассказал о себе, чем я занимаюсь, показал свои работы. Закончилось тем, что я стал сотрудником Седьмой лаборатории, и так началась моя уже 20-летняя служба в ИПУ РАН.
--Что Вас больше всего привлекает в научной работе?
На этот вопрос одновременно ответить и трудно, и легко. Это работа, которая всегда с тобой. Когда я или мои коллеги встают из-за стола и уходят домой, мы не прекращаем работать, мы не перестаем думать над своими задачами, не «отключаемся» от них. И это замечательно, это говорит, что ты занимаешься любимым делом, ты этим живешь.  Конечно, все это относится не только ко мне, но и моим коллегам, ко всем 17 сотрудникам моей лаборатории. В течение двенадцати лет на посту руководителя лаборатории я вижу одну из моих главных задач в том, чтобы не мешать им заниматься наукой, а создавать наилучшие возможные условия для этого.
Конечно, все это относится не только ко мне, но и моим коллегам, ко всем 17 сотрудникам моей лаборатории. В течение двенадцати лет на посту руководителя лаборатории я вижу одну из моих главных задач в том, чтобы не мешать им заниматься наукой, а создавать наилучшие возможные условия для этого.
 Конечно, все это относится не только ко мне, но и моим коллегам, ко всем 17 сотрудникам моей лаборатории. В течение двенадцати лет на посту руководителя лаборатории я вижу одну из моих главных задач в том, чтобы не мешать им заниматься наукой, а создавать наилучшие возможные условия для этого.
Конечно, все это относится не только ко мне, но и моим коллегам, ко всем 17 сотрудникам моей лаборатории. В течение двенадцати лет на посту руководителя лаборатории я вижу одну из моих главных задач в том, чтобы не мешать им заниматься наукой, а создавать наилучшие возможные условия для этого.
Сотрудники нашей лаборатории – люди исключительно квалифицированные, независимо от того, у кого какая ученая степень или ее еще пока нет. Они настоящие, глубокие, сложившиеся ученые, результаты которых признаны научным сообществом и у нас, и за рубежом. Они активно публикуются в авторитетных журналах, активно участвуют в крупных научных мероприятиях. Со своей стороны, я стараюсь по мере сил поддерживать в лаборатории тот уникальный микроклимат, тот дух, который сложился при Якове Залмановиче и продолжился усилиями Бориса Теодоровича.
Мне очень ценно дружеское сотрудничество. Мы ведь не просто люди, которые пришли утром на работу, каждый сел за свой стол, а вечером выключил компьютер и ушел домой, а единомышленники, товарищи, друзья. Любой человек может прийти ко мне в кабинет, показать свои результаты, спросить совета, поделиться какой-то проблемой, или наоборот – рассказать, о том, чего ему удалось достичь. Если заглянуть в любую нашу комнату – там почти всегда кто-то сидит рядом, плечом к плечу, и обсуждает какую-то задачу. Это совершенно замечательно, и я стараюсь, чтобы так было и впредь.
Мы поддерживаем глубокие дружеские связи со многими другими лабораториями Института. С сотрудниками редкой лаборатории в ИПУ РАН у нас нет каких-то пересечений в научном, личном, или общественном плане. Коллеги часто приходит к нам или мы приходим к ним, чтобы обсудить что-то, поделиться своими мыслями. По моему представлению, именно так и должно быть, потому что мы – одно сообщество. Это очень ценно.
--Вы заведующий лаборатории. Управлять коллективом само по себе очень непросто, а когда Вы сами – действующий ученый, а коллектив творческий… Как Вы преодолеваете трудности?
Это действительно непросто, тем более что я никогда не стремился заниматься именно административной работой: я ученый, и мне интересно заниматься наукой. Однако руководить лабораторией со столь славной историей, обладающей таким мощным научным потенциалом, – это большая честь и ответственность. Я стараюсь подходить к этому с максимальной самоотдачей. Наша лаборатория стабильно входит в число передовых в Институте по самым разным критериям. Значит, мы с коллегами все делаем правильно.
 --Всего три заведующих лабораторией за 70 лет – это впечатляющий результат. Откуда берется такой стабильный коллектив? Расскажите, пожалуйста, о том, кто работает в вашей лаборатории.
--Всего три заведующих лабораторией за 70 лет – это впечатляющий результат. Откуда берется такой стабильный коллектив? Расскажите, пожалуйста, о том, кто работает в вашей лаборатории.
Наши сотрудники – высококлассные специалисты, каждый из которых находится на своем месте и знает, что он хочет сделать в науке. В некотором смысле они особо и не нуждаются в руководстве. Но, конечно, в той мере, в какой я считаю нужным, я влияю на направления, которыми занимается лаборатория, на ее тематику и интересы. Это хорошо отлаженный, эффективный механизм, и очень бы не хотелось в нем что-то нарушить.
Наши сотрудники широко представлены в ряде редколлегий отечественных и зарубежных журналов, входят в состав ученых и диссертационных советов, программных комитетов крупных международных и российских научных конференций, ведут активную преподавательскую деятельность.
Что же касается ее состава – он делится примерно поровну, вот по какому принципу. Около половины – это выпускники МФТИ, которые когда-то пришли студентами слушать лекции в наших аудиториях, потом писали здесь дипломные работы, поступили к нам в аспирантуру, защитились, став сначала кандидатами, а многие и докторами наук.
Но Физтехом все не ограничивается. Я сам, как уже говорил, по образованию учитель математики, а Борис Теодорович Поляк по диплому был инженером-металлургом, он заканчивал Институт стали и сплавов. Среди нас есть и выпускники Московского института инженеров транспорта, Московского энергетического института, Саратовского политеха… Разными траекториями, но мы все пришли именно сюда.
Кстати, если говорить о молодежи, то в течение десяти лет, с 2009 по 2018 год, лаборатория проводила ежегодные Всероссийские молодежные летние школы под названием «Управление, информация и оптимизация». На них приезжали несколько десятков студентов, аспирантов, начинающих ученых со всей страны. Мы также приглашали на них ведущих российских и зарубежных ученых, которые в своих лекциях рассказывали ребятам, чем жива мировая наука и что им самим, прежде всего, интересно. Такие контакты были очень важны. Некоторые из тех, кто прошел через наши школы, потом оказались здесь, в ИПУ РАН, уже в качестве сотрудников, а со многими другими мы поддерживаем дружеские и научные связи.
Сейчас летние школы продолжают проводиться, но уже усилиями Физтеха и Высшей школы экономики. Они носят имя Б.Т. Поляка – их основателя и организатора первых десяти школ.
В лаборатории есть и своя Молодежная научная школа, которая непрерывно существует с 2007 г., с первого года, когда эти школы в Институте только стали появляться. Она не самая большая, но, тем не менее, вполне боеспособная и активная. Как ее руководитель я вполне доволен тем, как она функционирует. Будем надеяться, что дальше будет только лучше.
Конечно, сейчас по понятным причинам ситуация с притоком молодежи гораздо более сложная, чем в 2000-х и 2010-х гг. В коммерческих структурах платят гораздо больше, а экономический момент очень важен. Замечательно, что наш Институт старается материально заинтересовать молодежь с помощью тех же Молодежных научных школ, и до какой-то степени это работает.
Мы охотно и неизменно позитивно реагируем на попытки со стороны молодежи войти с нами в контакт. Кажется, что-то начало меняться в лучшую сторону. Так, в этом году у нас появились два молодых сотрудника, которые хорошо себя показывают в научном плане. Будем надеяться, что и они надолго задержатся у нас, и что в целом эта позитивная тенденция будет продолжаться.
--Не могу не задать вопрос, который сейчас задают не только ученым, но, кажется, даже певцам и балеринам. Какую роль играет ИИ в научной жизни вашей лаборатории?
Если говорить про ChatGPT и прочее, то сейчас никакую. Мы, прежде всего, опираемся на собственный интеллект, а не на искусственный.
В том виде, в каком ИИ существует сейчас, пока не просматривается, чем он может помочь в исследованиях, проводимых нашей лабораторией. Пока для меня это своего рода развлечение, не более того.
Может быть, дальше что-то изменится, может быть, даже в ближайшей перспективе. Тем интереснее жить. Но пока мы полагаемся, прежде всего, на себя, друг на друга, на своих коллег и на наш коллективный интеллект.
Чем Вы гордитесь как ученый и как руководитель лаборатории?
Конечно же, и я, и мои коллеги имеем все основания гордиться своими научными результатами. Наши статьи публикуются в авторитетных научных журналах, и в нашей стране, и за рубежом, они имеют многие сотни цитирований. И конечно же, вполне можно гордиться и тем, что наши результаты находят практическое применение: хотя наши теоремы и формулы иногда имеют довольно устрашающий вид, но они позволяют достигать практического результата, чтобы что-то летало и плавало так, как мы этого хотим: и подводный робот в нашем пруду, и беспилотный катер в Нагатинском Затоне. Это значит, что все не зря, что наука жива и востребована. Что может быть приятнее?
Взять, например, ПИД-управление, которое имеет довольно длинную историю, восходя к статье Циглера и Николса “Optimum Settings for Automatic Controllers”, вышедшей в 1942 г., то есть более 80 лет назад. ПИД-регуляторы являются наиболее распространенным типом автоматических регуляторов: по различным оценкам к ним относится более 90% используемых в настоящее время регуляторов. При этом согласно прогнозам на среднесрочный период эта доля по-прежнему будет исключительно велика, составляя около 80%. Столь обширное применение ПИД-регуляторов в промышленности, помимо пригодности для решения большинства практических задач и невысокой стоимости, обусловлено их простотой: для настройки ПИД-регулятора необходимо правильно выбрать всего три коэффициента. Может быть, два, если речь идет о ПИ-регуляторе, или четыре, если это, например, ПИД-регуляторы с фильтром. Однако сделать этот выбор очень непросто, так что процедуры их практической настройки во многом остаются эвристичными: в реальных установках ПИД-регуляторы часто настраиваются вручную, исходя из интуитивного понимания технологического процесса.
В 2022 г. в АиТ вышла наша совместная статья с Борисом Теодоровичем под названием «Новые методы настройки ПИД-регуляторов», она оказалась его последней прижизненной статьей.
В статье был предложен новый подход к задаче настройки параметров ПИД-регулятора, который предоставляет регуляторы, удовлетворяющие инженерным критериям качества. Далее его удалось обобщить на задачу подавления внешних возмущений, а в прикладном аспекте он был успешно применен к задаче управления квадрокоптером. Наши исследования в этом направлении были также поддержаны свежеполученным грантом РНФ.
Еще одна важная линия здесь связана с построением нехрупких ПИД-регуляторов, мы с вами уже затронули это понятие в беседе.
--Вы считаете себя учеником и последователем Бориса Теодоровича Поляка. А что Вы делаете по-другому, не так, как Ваш учитель?
Думаю, что тут все гораздо заметнее со стороны, так что на этот вопрос легче было бы ответить моим коллегам.
Важно то, что наша наука, теория автоматического управления, по–прежнему продолжает меняться. Появляются и новые результаты, и новый математический аппарат, а какие-то моменты с течением времени начинают смотреться под несколько иным углом зрения. Все это непосредственно влияет и на наши интересы, и как следствие – на содержание наших исследований.
В последнее время стал очень популярным подход к линейным системам управления с точки зрения оптимизации. Например, классическую задачу о линейно-квадратичном регуляторе можно рассматривать как задачу оптимизации, где переменной является матрица обратной связи, а минимизируется интегральный квадратичный показатель качества переходного процесса. Градиент такой функции для управления по состоянию был выписан еще в Калманом в 1960 г., а для обратной связи по выходу – десятью годами позже Левином и Атансом. С тех пор к различным задачам автоматического управления неоднократно применялись итеративные методы оптимизации, однако их обоснование появилось лишь недавно. Думаю, что это одно из направлений, которыми лаборатория будет заниматься в ближайшие годы.
--В какой степени Вы считаете себя фундаментальным ученым, а в какой степени прикладным?
Как ни странно, фундаментальная и прикладная наука не имеют четких границ, они очень сильно пересекаются. Если говорить обо мне, то я, конечно, кабинетный ученый. Мне интересно изучать научную литературу, писать статьи, получать теоретические результаты. Но одновременно меня очень радует, когда эти результаты находят практический выход, и я стараюсь не пренебрегать возможностями участвовать и в практических проектах.
В заключение нашего разговора я хотел бы сказать, что искренне благодарен Институту проблем управления за предоставленную возможность заниматься теоретическими исследованиями. Славные научные традиции нашего Института служили и продолжают служить для меня образцами для подражания.
Беседу вела Л. Бойко
В заключении предлагаем вашему вниманию список работ Михаила Владимировича, которые он считает важными для себя как для ученого:
