
Заведующий лаборатории №11 «Сетевых моделей в нейроинформатике и многоагентных системах» д.ф.-м.н. Л.Ю. Жилякова – человек многогранный, и наука, похоже, лишь одно из ее увлечений, но на всю жизнь и без остатка. Круг ее научных интересов – графовые динамические модели, распространение активности в сетях, гетерогенные сети взаимодействия сложных вершин, искусственный интеллект.
В 1992 году она окончила Ростовский государственный университет по специальности «Прикладная математика» и получила квалификацию математик. В 2001 году окончила заочную аспирантуру в Институте программных систем РАН (г. Переславль-Залесский) и защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук на тему «Исследование алгебраических и топологических свойств неоднородных семантических сетей», а в 2013 году – докторскую «Ресурсные сети и анализ их динамики».
Предлагаем вашему вниманию интервью с Людмилой Юрьевной, в котором она рассказывает, как складывалась ее жизнь и карьера ученого.
Как Вы стали ученым?
- Я родилась в семье ученых. У меня папа экономист, а мама математик. Мы жили в Ростове-на-Дону. Они оба работали в одном и том же институте. Институт назывался Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (АзНИИРХ). Это ведомственный институт. При этом, там занимались не только «рыбным хозяйством», это был в большей степени институт экологического мониторинга. То есть там работали не только ихтиологи, но и физиологи, гидробиологи, гидрологи, гидрохимики.
Моя мама была заведующей лабораторией, которая называлась Лаборатория математического обеспечения научно-исследовательских работ (МОНИР). Там за мои детство и юность сменились несколько поколений ЭВМ. Когда я была еще дошкольницей, я ходила к маме на работу и в перерыв играла с «Наири» в крестики-нолики. В нее был встроен телетайп, то есть мы с машиной общались – она печатала ответы прямо как пишущая машинка без оператора. Когда «Наири» проигрывала, она начинала такими кривыми строчками печатать, как будто рыдает. Это было так трогательно! После «Наири» появилась ЕС-1022, для которой сотрудники своими руками построили машинный зал.
Знаете, у мамы в лаборатории была такая чудесная атмосфера! Наверное, тогда я и захотела заниматься наукой, то есть работать в таком же месте, как я это тогда понимала. Гораздо позже я прочитала «Понедельник начинается в субботу». По атмосфере я всегда именно так и представляла мамину лабораторию. Там было чудесно, там работали чудесные люди. Я всегда приходила туда как на какой-то праздничный фестиваль, и мне, конечно, ужасно хотелось работать вот так же, там же, с теми же людьми. А любовь к математике, наверно, на каком-то генетическом уровне передалась, потому что я действительно очень любила математику. То есть у меня никогда не было никаких сомнений в выборе профессии, в выборе судьбы.
Единственное, что могло меня увести в сторону, это мое детское увлечение конным спортом. Я действительно выбирала, кем мне лучше стать, конюхом или математиком. Но с конюхом что-то не срослось.
 На мехмат Ростовского университета я поступила в 1987 году. До этого я посещала воскресную математическую школу, а потом нулевой курс, поэтому меня там уже знали и зачислили в группу, которая называлась ЦИПС, группа целевой интенсивной подготовки студентов. Туда собрали лучших. Нам обещали, что нас распределят в Ленинград, в какую-то крутую контору, которая связана с космосом. Готовили нас по специально подобранной программе, платили повышенную стипендию, реально очень большую, и мы были так горды своей миссией!
На мехмат Ростовского университета я поступила в 1987 году. До этого я посещала воскресную математическую школу, а потом нулевой курс, поэтому меня там уже знали и зачислили в группу, которая называлась ЦИПС, группа целевой интенсивной подготовки студентов. Туда собрали лучших. Нам обещали, что нас распределят в Ленинград, в какую-то крутую контору, которая связана с космосом. Готовили нас по специально подобранной программе, платили повышенную стипендию, реально очень большую, и мы были так горды своей миссией!
У нас преподавали очень хорошие ученые с мировыми именами.
Я училась на кафедре уравнений матфизики, а завкафедрой у нас был Виктор Иосифович Юдович. Было большой честью у него учиться.
Потом наступили 90-е, и все быстренько развалилось. Большинство моих одногруппников уехало, а я пошла работать в лабораторию МОНИР к моей маме. Это была мечта моего детства, которая вроде бы сбылась, но институт был уже не тот и лаборатория не та. Зарплат не было вообще никаких. Одним словом, это было тяжелое время.
Вы хотели просто работать математиком или у Вас были планы построить научную карьеру или хотя бы в качестве первого шага защитить кандидатскую диссертацию?
- Мне тогда было 24 года. После защиты диплома у меня родилась дочь. Я год с ней просидела дома и после этого вышла на работу. Это был 94-й год, для нас совершенно ужасный, потому что оба родителя работали в НИИ, и им не платили зарплату, а мы с мужем были начинающими специалистами. Средств не было никаких. Нам просто физически не на что и нечего было есть. Мы тогда питались с нашей дачи, а мама пекла пышки из муки на воде. Реально это все, что у нас тогда было. Идти работать было совершенно некуда. Огромная часть выпускников мехмата из тех, что не уехали, ушли работать бухгалтерами или продавцами, причем бухгалтерия считалась практически синекурой. В основном никто не стал работать по профессии.
От работы я тогда не ждала ничего. Я просто вышла на работу потому, что нужно было выйти на работу.
Честно говоря, после университета я была немного разочарована тем, как была устроена работа в НИИ. Мы просто собирали данные, которые привозили из исследовательских рейсов, и как-то их обрабатывали. Лаборатория состояла из программистов, которые разрабатывали базы данных и запросы к ним, и операторов, которые заносили данные. Научная составляющая в этой работе была очень невелика.
Через некоторое время после того, как я начала там работать, к нам неожиданно приехала команда ученых из Москвы и из Переславля-Залесского, которые предложили нашему институту принять участие в проекте создания экспертной системы «Азов».
Команду возглавлял Геннадий Семенович Осипов, очень известный ученый, первый ученик Д.А. Поспелова, основоположника школы искусственного интеллекта в России. Они работали в Переславле-Залесском в Институте программных систем Российской академии наук. Задача была сделать экспертную систему по Азовскому морю совместно с московским институтом, который назывался ВНИИЭРХ (прим. «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт экономики, информации и автоматизированных систем управления рыбного хозяйства,», закрыт в 2006 г.).
Они приехали, чтобы совместно с нашими специалистами вместе разрабатывать эту систему. В основном их интересовали, конечно, специалисты по морю – ихтиологи, гидрологи, гидробиологи, но разработчики сотрудничали и с нашей лабораторией.
Нас там было трое молодых ученых – я и еще две девушки, года на два меня младше, тоже выпускницы мехмата. Геннадий Семенович сказал, что мы открыты к сотрудничеству и, если кто-то хочет в аспирантуру, то мы можем взять вас в аспирантуру.
Это было так неожиданно. Честно говоря, я поначалу даже не связала аспирантуру с защитой диссертации. Просто при одной мысли, что мне опять можно будет где-то учиться, я в такую эйфорию впала, что, просто как в «Операции Ы» – на стройку - я, на цементный завод – тоже я, в аспирантуру – я, я и снова я! Ухватилась за это обеими руками и ногами, и поступила к ним в заочную аспирантуру, в Институт программных систем в Переславле-Залесском. Лучше места на Земле я тогда не знала! Я туда ездила в командировки, и это всегда был какой-то праздник. В итоге я все же написала кандидатскую диссертацию и в этом же институте ее защитила. На это у меня ушло четыре года.
О чем была Ваша диссертация?
- Диссертация была чисто теоретическая про семантические сети. Это такие системы представления знаний. В моей диссертации описывались математические свойства семантических сетей. Мне пришлось погрузиться в неформальные логики и лингвистику. Тогда онтологический инжиниринг только зарождался, а семантические сети были предвестником онтологий. Мне пришлось самостоятельно погружаться во все эти львовско-варшавские и московско-тартуские школы. Это было очень ново для меня и очень интересно. Больше всего мне пригодилась мереология Станислава Лесьневского.
В практическом смысле, защита диссертации вылилась в то, что я как кандидат наук стала заведующим лабораторией в АзНИИРХе, но по-прежнему продолжала заниматься своими базами данных. Там больше, собственно, нечем было заниматься математику. Я написала несколько моделей динамики численности рыбных популяций и распространения завезенного недавно гребневика Вeroe ovata. Но по сравнению с искусственным интеллектом, мне это казалось совсем неинтересным.
Карьерный рост налицо…
- Карьерный рост да, но при этом он особо не сопровождался научным ростом. Проект создания экспертной системы по Азовскому морю завершился, и все потихоньку начало возвращаться на круги своя.
Несколько лет я буквально зубами держалась за свою научную тему. Я писала доклады на конференции и ездила на них, беря отпуск. Эти поездки мне никто это не оплачивал. Я ездила на конференции как бы сама от себя. Конференции были связаны с искусственным интеллектом, то есть я продолжала заниматься семантическими сетями и близкими моделями представления знаний.
После этого мы много лет переписывались. Я ему писала свои идеи, он критиковал, я пыталась доработать… Я тогда увлеклась идеей голографического представления памяти, а он был увлечен этой же темой с другой стороны. У него было уже было опубликовано несколько статей и монография про голографическую обработку информации в нейронных сетях. Мы с ним сошлись на почве голографии и пытались эту тему продвигать. Потом из этого начали вырастать другие темы.
В конце концов, в 2009 году мы с ним стали обсуждать новую модель, и в итоге Олег Петрович придумал ту самую ресурсную сеть, про которую я защитила докторскую диссертацию. До этой модели мы дошли мозговым штурмом. Он, разумеется, родоначальник и автор, но, тем не менее, я тоже считаю себя причастной к рождению ресурсной сети.
Как Вы перебрались в ИПУ РАН?
- Благодаря совершенно счастливому случаю, но началось все с недоразумения.
Как-то раз я приехала сюда на семинар к Дмитрию Александровичу Новикову, чтобы рассказать про свои первые научные результаты. Это выступление устроил Олег Петрович, и я хотела его попросить быть моим руководителем докторской, если тему признают подходящей.
Меня приняли, как мне показалось, достаточно благосклонно. Было уже понятно, в каком направлении развивать тему и, вроде бы, вырисовывалась докторская диссертация.
Тогда, чтобы стать докторантом, нужно было прикрепиться к аспирантуре. Я написала заявление и уехала в Ростов. Через некоторое время мне звонят из отдела аспирантуры и спрашивают, Людмила Юрьевна, а не хотели бы Вы у нас поработать? Для меня это был просто шок. Я живу в Ростове, здесь у меня семья, дочь школьница, у мужа – бизнес.
Сначала я подумала, что меня с кем-то перепутали. Я была настолько ошеломлена, что отказалась.
Но я тут же позвонила Олегу Петровичу и спросила, что это было? Оказалось, он был не в курсе, а отдел аспирантуры по своей инициативе вышел на меня. Впоследствии выяснилось, что у Института была возможность получить грант, позволяющий взять нескольких молодых докторантов, чтобы они некоторое время поработали в ИПУ.
Затем мне позвонили из отдела аспирантуры еще раз, а между этими двумя звонками я, естественно, напряженно думала.
В то время я уже ушла из АзНИИРХа, сменила два вуза и преподавала в пединституте. Если честно, это была, наверное, худшая работа моей жизни. Помимо математики, я вела ужасные курсы: «Информационная культура» и даже «Основы домоведения» (не спрашивайте, все равно не расскажу). Студенты были совершенно не мотивированные. Пустые глаза и люди сидят, неизвестно зачем! Одним словом, у меня был повод рефлексировать. Я, конечно, стала думать: «Боже мой, может быть, это единственный шанс моей жизни? А я его упустила…». Поэтому, когда мне позвонили второй раз, я сказала: «Да, да, да!». Пришла к мужу и говорю: «Отпусти меня! Что хочешь делай, но отпусти!». Я не помню на какой период, была рассчитана программа, но что-то условно на год.
Потом мне звонит Олег Петрович и говорит: «Мы поговорили с Дмитрием Александровичем», который был тогда замдиректора. «Оказывается, эта программа не для тебя». Я не подходила то ли по возрасту, то ли по каким-то другим критериям. Ну, думаю, не судьба. А Олег Петрович продолжает: «Но Новиков сказал, раз такое дело, зачем нам какая-то программа? Пусть просто так приезжает!».
Я собралась и поехала. Это был конец 2010 года.
Уехала я одна, а потом постепенно вслед за мной приехала моя семья. Через полгода приехала дочь, за ней приехал муж…. В итоге я и маму привезла, так что вся моя семья отправилась вслед за мной. Мой муж до сих пор называет себя в шутку «женой декабриста».
- Да, очень тяжело. Очень! Во-первых, проблемы с жильем. Мы продавали и покупали квартиры. Моему мужу было трудно найти новую работу.
На первых порах было крайне трудно, и финансово, и организационно. Когда я уехала, то жила в общежитии. У меня была зарплата 16 000 рублей, 10 000 я отдавала за общежитие, а на остальные пыталась жить. Здесь мы смогли купить квартиру только в Мытищах. Больше 10 лет я ездила на работу из Мытищ.
Но вы даже близко не представляете, какое счастье я испытывала от того, что я работаю в ИПУ! Для меня вся моя предыдущая жизнь была каким-то немыслимым выживанием, и тут я поняла, ради чего это было.
Почему Вы остались в науке? Похоже, в 90-е, когда Вы начинали карьеру, все этому препятствовало?
- Понимаете, не знаю. Было ощущение, что ты тонешь в болоте, а тебе нельзя утонуть.
Мне кажется, у ученого есть только одна единственная мотивация – это его интерес. Это, как ни пафосно прозвучит, в большой степени смысл его жизни.
Что в ИПУ РАН такого особенного, что вызвало Ваше ощущение счастья?
- Мне очень нравилась лаборатория Олега Петровича. Я пришла в лабораторию, где был изумительный коллектив. Кроме этого, меня сразу взяли в проект, чтобы поддержать финансово и морально. Мы работали очень напряженно, буквально днями и ночами. По ночам в общем чате мы перекидывали друг другу куски кода. Помню, как в три часа ночи я ныла, отпустите меня спать, у меня завтра в 9 часов тренировка, а мне говорили, ну еще чуть-чуть и отпустим. Но все равно, та атмосфера, которая была, она дорогого стоит. Я до сих пор вспоминаю те дни, как очень счастливые.
Возможно, просто надо поработать в плохих местах, чтобы понять, как хорошо работается в хороших. В какой-то степени я сочувствую нашим студентам. Они сюда приходят и не понимают, как может быть иначе. А иначе может быть очень по-разному.
Я, конечно, никому не пожелаю плохого опыта, но возможно он всем нам для чего-то нужен. Хотя бы, чтобы потом больше ценить хорошее.
Из Вашего рассказа можно сделать вывод, что Вы такой «солдат удачи».
- «Солдат удачи» – хорошая метафора, но я не думаю, что это на самом деле так.
Человек, который выпадает из науки, может продержаться вне ее максимально какое-то небольшое количество лет, а потом вход закрывается, назад вернуться он не может. Я считаю, что те годы, которые я продержалась вне науки, но занималась наукой просто по своей инициативе, это совершенно героические для меня годы. То есть, я бы не сказала, что это удача, это была большая внутренняя работа. Сейчас, когда я занимаюсь наукой на работе, и то не всегда просто найти мотивацию. А тогда я занималась этим в свободное время и колоссальное количество времени уделяла занятиям наукой. Если выбирать тот период жизни, за который мне нужно поставить памятник, то именно за тот.
Работая в АзНИИРХе, я параллельно много преподавала. Я люблю преподавать. Еще до защиты преподавала у нас в Ростовском государственном университете, где была ассистентом кафедры алгебры и дискретной математики. Потом перешла из АзНИИРХа работать в Ростовский институт путей сообщения. Там я преподавала информатику и смежные дисциплины, и это было очень интересно. Я бы даже сказала, что это было очень познавательно, потому что мне пришлось огромный пласт этих наук поднимать самой для себя. Когда училась, я училась на прикладной математике. Из нас готовили фундаментальных исследователей. А тут мне пришлось и самообразовываться, и учить студентов. Это было захватывающе. Более того, мы с коллегами даже разрабатывали тесты для ФЭПО («Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования»), для тестирования по информатике. Это тоже было очень интересно. С молодежью всегда очень интересно работать, особенно с мотивированной.
Как Вы пришли к биологическим моделям?
- Однажды, в 2014 году, будучи на конференции по когнитивным наукам, мы с Олегом Петровичем Кузнецовым услышали пленарный доклад Дмитрия Антоновича Сахарова. Он был совершенно гениальный ученый-биолог и замечательный поэт, на стихи которого написаны широко известные песни («Бричмулла», «Александра» и другие) (прим. псевдоним Дмитрий Сухарев).
В своем докладе он рассказывал про гетерохимические механизмы взаимодействия нейронов в мозге. Как это было захватывающе! Поэтому, когда он в конце сказал, что жаль, нет знакомых математиков, которые могли бы заниматься этой темой, я просто подпрыгнула, а Олег Петрович – человек действия. На следующей конференции он подошел к Дмитрию Антоновичу, представился, рассказал про наш коллектив и предложил сотрудничество. С тех пор мы стали сотрудничать с коллективом биологов из Института биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН. Совсем недавно мы с биологами отпраздновали десятилетие нашего знакомства. Дмитрий Антонович не дожил до этой даты совсем немного, он скончался в конце прошлого года…
Это были очень интересные годы сотрудничества. Нам приходилось сходу «въезжать» в совершенно незнакомую и очень сложную тему – нейробиология, внутреннее устройство нейронов и процессы, которые там происходят.
Сначала решили, что «с кондачка» пройдемся по верхам, все поймем и напишем модель, но оказалось, что это так не работает.
В результате у нас еженедельно стали проходить семинары, причем, место проведения чередовались: то у нас в ИПУ, то в Институте биологии развития. Соответственно, менялись и докладчики. Мы докладывали наши соображения и рассказывали о продвижении модели, а биологи указывали, в чем мы ошибаемся и на что нам надо обратить внимание. Такие семинары длились несколько лет. Это была очень плодотворная работа!
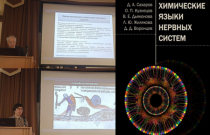 В прошлом году у нас наконец-то вышла монография, которая подвела итоги нашей совместной работы. (Мы об этом писали в апреле 2024 г.)
В прошлом году у нас наконец-то вышла монография, которая подвела итоги нашей совместной работы. (Мы об этом писали в апреле 2024 г.)
Мы продолжаем общаться и проводить семинары, правда, уже не с такой интенсивностью.
Нужно сказать, что эта тема нас сильно зацепила. С тех пор мы занимаемся многими другими биологически инспирированными моделями.
Например, в нашей лаборатории коллектив Николая Базенкова занимается спайковыми сетями, а также локальными алгоритмами обучения, которые считаются биологически более правдоподобными. (Читайте о докладе Н.И. Базенкова на Ученом совете здесь).
Кроме того, сбылась моя мечта: хобби начало срастаться с работой. (Л.Ю. занимается цигун-тайцзи и занимает призовые места на соревнованиях. Информацию об этом вы найдете здесь и здесь).
У нас появились инерциальные датчики движения, и мы начали записывать и обрабатывать движения цигун. Датчики передают данные о движении на устройство, телефон или компьютер. По этим данным можно воссоздать движения человека через его виртуальный аватар. К этим задачам мы сейчас привлекаем студентов. Мы записываем показания датчиков при выполнении движений, а студенты начинают их анализировать.
Как результат мы бы очень хотели получить такую систему, которая могла бы отслеживать правильное или неправильное выполнение и давать рекомендации человеку, который занимается самостоятельно. Человеку самому понять, как он двигается, даже глядя на себя в зеркало, – очень трудно. Но кроме визуализации, нужен также огромный пласт анализа данных.
Мы только стартовали с этой задачей. Я надеюсь, что мы получим интересные результаты.
Будете смеяться, но это предложила не я, а мои сотрудники, и я очень счастлива, что так случилось. То, что мы делаем, это, скорее, человеко-ориентированная система, которая помогла бы осваивать движения. Это практическая задача. А с научной точки зрения мы хотим посмотреть, как нам правильно анализировать эти данные, какие закономерности нужно из них извлечь, и что из этого всего можно получить. Сейчас мы собираем данные, и потом начнем более внимательно смотреть, что они собой представляют, как их нужно анализировать, какие новые методы разрабатывать.
Получается, что вы ученый не одной темы. Одного направления, но не одной темы. Как менялись Ваши научные интересы?
- Дело в том, что жизнь не стоит на месте. Чтобы просто остаться на месте, приходится бежать, а чтобы куда-то переместиться, приходится бежать вдвое быстрее. Так получается, что темы сами откуда-то приходят. Не могу сказать, что я сижу и думаю, чем бы мне теперь заняться. Скорее, такое обилие тем, что приходится выбирать между ними.
Вы занимаетесь фундаментальной наукой. Насколько фундаментальные темы далеки от реальной жизни?
- Когда я защищала докторскую, да и потом, самый частый вопрос, особенно у людей, которые не понимают сути происходящего, был: «Как это применить в народном хозяйстве?», а практически никак или мы пока не знаем, как.
Был такой знаменитый английский математик – Годфри Харди, который занимался теорией чисел. В своей книге «Апология математика» он писал: «Я никогда не делал чего-нибудь «полезного». Ни одно мое открытие не принесло и не могло бы принести, явно или неявно, к добру или ко злу, ни малейшего изменения в благоустройстве этого мира».
Но потом оказалось, что его результаты важны для криптографии и очень активно используются в шифровании. Наверное, для Харди это стало бы ударом.
В свое время мы цитировали фразу «нет ничего практичнее хорошей теории», которую кому только ни приписывают, от Кирхгофа до Канта.
Однако, мы все же сделали несколько модификаций ресурсных сетей, которые применимы к некоторым задачам, но ресурсная сеть в изначальном виде так и осталась чистой математической абстракцией. Как Харди, я, скорее, горжусь этим, чем сожалею по этому поводу. Но, действительно, бывает так, что гораздо легче думать о задаче, когда ты понимаешь, откуда у нее ноги растут, а когда она берется из ниоткуда и как бы висит в воздухе, то с ней работать гораздо труднее.
Знаете, у меня была в мечтах «модель магнум». Я хотела придумать такую ассоциативную сеть, которая бы объясняла устройство памяти человека. Это было в начале 2000-х, и у меня было много иллюзий, что я смогу это сделать, и это будет что-то необыкновенное. Я была настолько полна энтузиазма, что заразила даже Олега Петровича, и мы с ним стали вместе думать над динамической моделью ассоциативной сети, которая имитировали воспоминания людей по ассоциациям. Как сымитировать, когда мы припоминаем что-то одно, а по ассоциации – что-то другое? Как должна быть устроена такая сеть?
Мы с Олегом Петровичем много думали. В конце концов, он придумал ресурсную сеть, которая выросла из ассоциативной сети, но к ней никакого отношения не имеет. Это оказался великолепный математический объект с большим количеством очень интересных свойств. Олег Петрович рассмотрел простой случай, который называется «полная однородная ресурсная сеть». Это полный граф с одинаковыми дугами, с дугами одного и того же веса.
Когда я стала рассматривать другие топологии, то оказалось, что это какой-то бездонный кладезь с кучей теорем. В итоге я закончила тем, что доказала теорему из теории матриц, которую я в учебниках не нашла. Это было очень интересно, и я считаю, что это был значительный результат! Это было в 2021 году, мы с двумя студентами опубликовали статью в журнале «Mathematics».
Результаты про матрицу получились из наблюдений за ресурсной сетью. Я считаю, что такие вещи в математике – это самое вдохновляющее, что есть, а именно, когда, занимаясь исследованиями в одной области, ты приходишь к совершенно неожиданным результатам в другой!
Чем занимается ваша лаборатория? (Лаборатория №11 «Сетевых моделей и нейроинформатике и многоагентных системах»)
- В последние годы в нашей лаборатории протекает достаточно бурная жизнь в том смысле, что несколько раз менялся состав и переструктурировалась тематика исследований. (Подробно об этом здесь).
В прошлом году наши коллеги, которые занимаются социальными сетями и многоагентными системами, перешли в лабораторию №25; остались те, кто занимается когнитивными и биологическими моделями, нейроинформатикой.
Сегодня мы занимаемся нейронами, но не теми, которые присутствуют в искусственных нейронных сетях, а более сложными и более биологически правдоподобными моделями. Кроме этого, у нас продолжаются исследования когнитивных и семиотических моделей.
Отдельно стоит отметить систему ИСАНД, которая разрабатывается в ИПУ.
(О системе ИСАНД мы писали здесь).
В ее основе лежит онтология, структуру которой еще давно предложил О.П. Кузнецов. Он очень долго убеждал, что это нужная и важная модель, и вот, наконец, она воплощается в жизнь. Не только структура, но и первое наполнение было сделано сотрудниками нашей лаборатории.
В этой модели три ветви – фундаментальные науки, прикладные науки и приложения. Изначальное наполнение было предложено Олегом Петровичем, а Виктор Степанович Суховеров это реализовал в компьютерной модели. Т. е., онтологический инжиниринг – тоже часть нашей работы.
Сейчас проект ИСАНД вышел на новый уровень, но основа, сама база знаний в виде онтологии – это то, что предложил Олег Петрович.
У нас были проекты с лабораторией №57 «Активных систем», в которых участвовали сотрудники нашей лаборатории и лаборатории №25 «Теории выбора и анализа решений им. М.А. Айзермана».
Мы исследовали динамические социальные сети, исследовали распространение нескольких типов активности в социальных сетях, мне лично всегда были интересны более сложные модели, чем, скажем, искусственная нейронная сеть или модель с распространением одного типа активностей. Чем шире алфавит системы, тем большую выразительную силу она имеет.
Когда мы начали заниматься гетерохимической моделью, то биологи сначала нам показывали картинки, на которых все нейроны – разного цвета. Это было так захватывающе и наглядно, что мы стали работать с цветными сетями. Цвет был дополнительным параметром для различения типов нейротрансмиттеров, с помощью которых нейроны обмениваются информацией.
Использование цвета оказалось настолько универсальным, что мы попробовали применить его в социальных сетях. У нас были агенты с несколькими типами активности, у них была внутренняя структура, которая задавалась некоторым вектором предпочтений, и каждое предпочтение было какого-то одного цвета. Получилось, что сети распадались на цветные подсети.
Моя докторская диссертация была посвящена ресурсным сетям, и ресурс там был один, но этого одного ресурса, видимо, мне и не хватило. Потом у меня появились множественные ресурсы разного цвета. В социальных сетях это позволяет отслеживать не просто бинарную систему – пользователь активен или не активен, а систему с расширенным алфавитом. Мы видим, что пользователь может быть активен по разным типам, причем, его активность зависит от его предпочтений…
Такие модели достаточно сложные, в общем виде они исследуются с помощью имитационных моделей. А для малого числа агентов и двух типов активностей я делала аналитические исследования и доказала несколько интересных утверждений.
Потом я опять переключилась на нейроны, но я с удовольствием предлагаю эти модели сложных агентов студентам, и уже несколько курсовых работ об этом было написано. Я считаю, что, по крайней мере, в качестве игрушки это хорошая модель.
Но, однако же, часть этой модели пригодилась мне в работе с нейроноподобными агентами, которые запоминают временные интервалы. Небольшую такую сеть я засунула внутрь такого агента, и он стал способен воспринимать и запоминать временные интервалы и потом воспроизводить их. Так что так получается, что если ты находишься в каком-то научном поле, то никакие практические наработки не пропадают даром. Они переходят из модели в модель, причем, иногда совершенно неожиданным образом. Это тоже часть интригующей и захватывающей научной жизни.
Насколько высока степень научной свободы в вашей лаборатории?
- Вы знаете, я человек, который 13 лет проработал в отраслевом институте, а сейчас я работаю в академическом. Могу сравнивать. Здесь такая степень свободы! Мы пишем планы работ и отчитываемся по своим планам. В плане работ я не вижу рамок, условно говоря, ни слева, ни справа. Я могу запланировать все, что я для себя хочу. Может быть, не в каждой лаборатории так, я не знаю. Мы же занимаемся сетевыми моделями, и в рамках сетевых и графовых моделей я могу придумать, что хочу, и исследовать, что хочу.
Как Вы относитесь к административной работе? Ведь по мере «созревания» ученого она становится почти неотъемлемой частью его трудовой жизни.
- Вы знаете, я считаю, что административная работа гораздо больше мешает ученым, чем помогает. Или так: административная работа – не для каждого. Есть люди, которые умеют совмещать бешеную административную нагрузку с научной работой.
Когда я была Ученым секретарем Института, у меня, честно говоря, вообще не было ни времени, ни сил на научную работу. Мне лично было крайне тяжело. Хотя здесь все-таки все очень сильно зависит и от темперамента, и от психики конкретного человека.
Насколько важно ученому иметь ученую степень и насколько важен последовательный путь – учеба, аспирантура, докторантура…? Важно ли все делать вовремя – кандидатская до 30, докторская до 40?
- Трудно сказать, как должно быть. Я не могу говорить вообще, могу сказать про себя.
Я уже рассказывала, что после учебы на много лет выпала из научной жизни. Я защищала кандидатскую диссертацию в 31 год. Мне казалось, что я просто старуха, что все мои сверстники уже давно кандидаты наук, а я вроде Ломоносова в первом классе. Докторскую я защищала в 43 года, и мне тоже казалось, что я очень стара для этого.
При этом я не встречала ни одного человека, который бы защищался легко и просто. Как только ты начинаешь защищаться, такое впечатление, что вся жизнь, все обстоятельства начинают играть против тебя. Вечно что-то случается с тобой, вечно что-то случается у твоих оппонентов, отзывы не доходят… Причем, на все эти события ты не можешь повлиять. Казалось бы, не можешь повлиять – расслабься. Но ты и расслабиться не можешь!
Я защищала кандидатскую в Переславле, не в своем городе, и все, что касалось моей защиты, я делала сама. Я связывалась с оппонентами, с ведущей организацией. Все это я делала из другого города по междугороднему телефону. Сейчас трудно представить, но тогда мне на работе для этого требовалось специальное разрешение. Я буквально на нервном срыве приехала на защиту. Меня поселили в квартиру для командированных сотрудников. А накануне защиты туда приехал другой человек, что-то было не согласовано, и меня выгнали оттуда.
Была зима, декабрь. С чемоданом, ночью, через частный сектор потащилась в гостиницу. До сих пор помню, как иду пешком в страшный мороз. А в Переславле дома деревенские – и из труб в звездное небо уходит дым. Я пытаюсь катить по сугробам чемодан, а он не катится, а у меня завтра защита.
Когда я защитилась, то подумала, что больше – никогда! Больше через этот ужас я никогда не буду проходить, ни за что. Понадобилось 12 лет, чтобы все неприятности как-то забылись и повторились с докторской. Потому что вне зависимости от качества вашей работы, вне зависимости от всего, – это событие на пределе ваших возможностей.
Теперь, когда я смотрю на молодежь, которая защищается у себя же в институте, у которой аспирантура здесь же, то мне думается – люди, ну почему вы не защищаетесь сразу же после окончания вуза?
Написание самой диссертации – это самая легкая часть защиты. Когда тебя наш отдел аспирантуры проводит за ручку – вот, сдавай кандидатские экзамены, тебе помогут; у нас есть три Совета – тем тебе тоже помогут, только защищайся! Люди своего счастья не понимают
Может быть, они не понимают, зачем им защищаться?
Разумеется, надо понимать, что занятие наукой – не для всех. К примеру, у нашей лаборатории нет хоздоговоров, и я могу сказать про моих сотрудников, что мы работаем в большой степени на энтузиазме. По зарплатам мы не можем конкурировать ни с какими коммерческими заведениями. Если нет интереса, то люди будут уходить, как их ни удерживай, чем их ни удерживай.
Я делаю все, что в моих силах, чтобы все наши студенты и аспиранты чувствовали себя настолько комфортно, насколько я могу это обеспечить. Спасибо Дмитрию Александровичу за то, что у нас есть Полигон, потому что в основном все сотрудники, которым нужна подработка, подрабатывают там.
Я хочу сказать, что если вы мотивированы заниматься наукой, то у вас будут и результаты. Если у вас есть результаты, вам достаточно легко написать диссертацию. Если вы пишете диссертацию, то приходится, да-да, перетерпеть некоторое число совершенно безумных обстоятельств, которые валятся на вас ниоткуда. Но когда вы в институте, и вся система работает на вас, это в разы легче.
Мне кажется, что просто нет такого вопроса «Зачем защищаться?». Если у меня есть результаты, то почему мне их не защитить? Если я работаю в академическом институте, то почему мне не стать кандидатом или доктором наук?
Другое дело, что как только вы становитесь кандидатом или доктором, вас сразу берет в оборот административная машина, и здесь начинаешь задумываться, насколько тебе это нужно.
Сейчас так носятся с молодыми учеными, что, кажется, у них должна быть единственная мотивация – заниматься наукой. Все этому способствует. Казалось бы, только выбирай, чем хочешь заняться. Легко ли сейчас привлекать молодые кадры?
- Понимаете, у молодых ученых сейчас уйма соблазнов. Сейчас, например, IT-компании предлагают какие-то колоссальные зарплаты, от которых, наверное, будь я молодым ученым, тяжело было бы отказаться. Сейчас молодому человеку можно уйти на очень интересные задачи и при этом на очень высокую зарплату. Конкурировать с этим очень тяжело. Поэтому я стараюсь своих молодых ученых, так сказать, обволакивать любовью со всех сторон.
Мы стараемся давать им достаточно широкий выбор. Сейчас к нам в основном бауманские ребята приходят. Когда они приходят в нашу лабораторию, мы обязательно устраиваем семинар, и каждый рассказывает перечень задач, которыми они могут заниматься. Каждый сотрудник имеет некоторый пул задач для студентов, и мы даем им выбрать и даем некоторое время разобраться. Скидываем презентации, они читают, советуются и выбирают. Даже после такого первичного выбора, если понимают, что ошиблись, они всегда могут поменять тему. Безусловно, в рамках задач лаборатории, но здесь у нас достаточно широкий спектр, и я надеюсь, что мы никого не ограничиваем.
Есть что-то, о чем я Вас не спросила, но что Вы сами хотели бы сказать?
Я думала про занятия наукой. Они очень сильно завязаны на эмоциональную составляющую. Нельзя заниматься наукой с холодной головой. Может быть, и можно, но я это плохо себе представляю.
Ты постоянно испытываешь какие-то сильные эмоции. Или отчаяние, когда у тебя ничего не получается. Возможно даже, что отчаяние – это самая частая эмоция, которая преследует ученого. У тебя не получается, не получается, не получается – а потом вдруг раз – получилось! Тогда ты испытываешь эйфорию. Но не бывает такого, что ты занимаешься наукой и не испытываешь ничего. Мне кажется, что самый сильный допинг в науке – это удовольствие от интеллектуальной деятельности. Это ни на что не променяешь. Кто подсел, тот уже подсел.
Беседу вела Л. Бойко
P.S.
Предлагаем вашему вниманию несколько ссылок на работы Людмилы Юрьевны, которые автор считает наиболее значимыми.
Сахаров Д. А., Кузнецов О. П., Дьяконова В. Е.,
Жилякова Л. Ю., Воронцов Д. Д.
С 22 Химические языки нервных систем.— М.: Издательский Дом ЯСК 2024.— 216 c.
ISBN 978-5-907498-57-0
В книге, написанной коллективом нейробиологов из Института биологии развития РАН и группой математиков из Института проблем управления РАН, излагается гетерохимическая концепция работы нервной системы.
by Liudmila Zhilyakova , Vasily Koreshkov and Nadezhda Chaplinskaia
Abstract
The resource network is a non-linear threshold model where vertices exchange resource in infinite discrete time. The model is represented by a direct weighted graph. At each time step, all vertices send their resources along all output edges following one of two rules. For each vertex, the threshold value for changing the operation rule is equal to the total weight of its outgoing edges. If all vertices have resources less than their thresholds, the network is completely described by a homogeneous Markov chain. If at least one of the vertices has a resource above the threshold, the network is described by a non-homogeneous Markov chain. The purpose of this article is to describe and investigate non-homogeneous Markov chains generated by the resource network model. It is proven that they are strongly ergodic. In addition, stochastic matrices of a special form were studied. A number of new properties were revealed for them. The results obtained were generalized to arbitrary stochastic matrices.
by Liudmila Zhilyakova
Abstract
A resource network is a non-classical flow model where the infinitely divisible resource is iteratively distributed among the vertices of a weighted digraph. The model operates in discrete time. The weights of the edges denote their throughputs. The basic model, a standard resource network, has one general characteristic of resource amount—the network threshold value. This value depends on graph topology and weights of edges. This paper briefly outlines the main characteristics of standard resource networks and describes two its modifications. In both non-standard models, the changes concern the rules of receiving the resource by the vertices. The first modification imposes restrictions on the selected vertices’ capacity, preventing them from accumulating resource surpluses. In the second modification, a network with so-called greedy vertices, on the contrary, vertices first accumulate resource themselves and only then begin to give it away. It is noteworthy that completely different changes lead, in general, to the same consequences: the appearance of a second threshold value. At some intervals of resource values in networks, their functioning is described by a homogeneous Markov chain, at others by more complex rules. Transient processes and limit states in networks with different topologies and different operation rules are investigated and described.
Аннотация
Статья содержит подробный обзор математических моделей нейронов и нейронных взаимодействий. Модели разделены на два больших, но неравных класса: «электрические», которые уделяют внимание только электрическим процессам, и «гетерохимические», в которых основной упор делается на химизм нейрона, на его химические входы и выходы. Первый класс моделей гораздо шире, поскольку имеет более долгую историю. Модели второго класса принадлежат к новому развивающемуся направлению в нейробиологии. В конце статьи кратко описана асинхронная гетерохимическая модель, предложенная авторами совместно с коллегами из ИПУ РАН и ИБР РАН.

